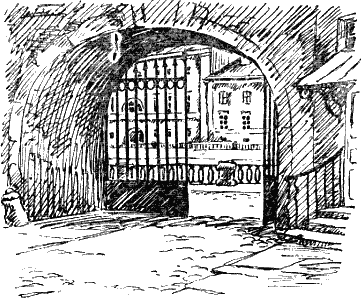В.Н. КАТАСОНОВ
Доктор философских наук, доктор богословия
ЗАГАДКИ «СНА СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА» Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО
|
|
«Но дважды два четыре – все – таки вещь пренесносная. Дважды два четыре - ведь это, по моему мнению, только нахальство-с. Дважды два четыре смотрит фертом, стоит поперек вашей дороги руки в боки и плюется. Я согласен, что дважды два четыре – превосходная вещь; но если уже все хвалить, то и дважды два пять – премилая иногда вещица». Ф.М.Достоевский «Записки из подполья», IX.
|
1. Главный вопрос. Небольшой рассказ «Сон смешного человека» был опубликован Ф.М.Достоевским в 1877 году в рамках очередной тетради «Дневника писателя»[1]. Современная ему критика почти не обратила внимания на этот рассказ, однако, в дальнейшем, в особенности, в начале XX века, к рассказу не раз обращались многие русские мыслители[2]. В чем же притягательность этого рассказа, чем он интересен и по сегодняшний день, смеем даже сказать: что в нем позволяет причислить его к лучшим произведениям философской прозы великого писателя ? Сюжет рассказа несложен. Герой рассказа, «русский прогрессист и петербуржец», типичный «человек из подполья» Достоевского, доведенный до предела бессмысленностью своего существования, задумывает совершить самоубийство. Но неожиданно он засыпает и видит сон о «золотом веке» человечества, о роде человеческом, не совершившим грехопадения и счастливо живущем на Земле[3]. Любовь, пронизывающая все отношения этих людей глубоко трогает и главного героя, он буквально «молится на них». Однако, его испорченная нравственная природа берет верх и он «развращает» всех этих людей, всю эту цивилизацию. Появляются ложь, зависть, рабство, сладострастие, убийства, ложные и человеконенавистнические теории и т.д. Главный герой пытается проповедывать о прежней жизни, пытается объяснить всем, что это он виновник деградации человеческого рода, хочет принести себя в жертву, но его никто всерьез не слушает. Тут он просыпается и одушевленный идеалом золотого века, виденным им образом жизни людей, построенной на любви, во-первых, изменяется сам, а во-вторых, начинает активную проповедь в пользу старой истины, «…которую биллион раз повторяли и читали…»: люби других, как самого себя. И тогда вернется золотой век !.. «Главное – люби других как себя, вот что главное, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь как устроиться»[4]. Все это прекрасно, но есть одно затруднение никак не позволяющее считать рассказ еще одним образцом банальной утопической литературы. Главный вопрос, который встает перед внимательным читателем, это: почему главный герой развратил всех людей золотого века ? Произошло ли это машинально, просто, по заразности греха, или же потому, что в этом золотом веке чего-то не хватало, чего-то, что по своей ценности перетягивает даже всю их счастливую и лучащуюся любовью жизнь ?.. В пользу последнего говорит постоянно подчеркиваемое героем обстоятельство: после падения, говорит главный герой, « я… любил их, может быть, еще больше, чем прежде, когда на лицах их еще не было страдания и когда они были невинны и столь прекрасны»[5]. Какая же ценность может возвышать падший мир над миром счастья и любви ? Какая ценность может быть в страдании ? Интересно то, что Достоевский нигде в этом рассказе не дает прямых ответов на эти вопросы. Более того, его герой идет проповедовать не мир страдания, а именно тот мир счастья, который предвиделся ему в его сне ! Именно тот мир, который он любил меньше, и который он развратил !?.. Попытаемся приблизиться к разгадке, - не скажу, разгадать, - этой загадки.
2. Нигилизм. Герой «Сна смешного человека», как мы уже сказали, типичный для Достоевского человек из подполья, а это значит и идеолог, для которого задача нахождения смысла жизни принципиальна. Если обычный человек может как-то имитировать жизнь, то герои - идеологи у Достоевского не могут позволить себе подобной роскоши. Они идут до конца: «Если Бога нет, то все дозволено! Если нет смысла в жизни, то с ней надо кончать !» Вот и герой «Сна» с раннего возраста открывает для себя ужасную истину нигилизма: «…это постигшее меня одно убеждение в том, что на свете везде все равно»[6]. Это всеравенство значит, прежде всего, отсутствие фундаментальных ценностей в жизни, и в первую главу, отсутствие Сверхценности, Святыни, Бога. Другими словами, это Ницшеанское «Бог умер!», только лишенное своего громогласного пафоса, и еще более ужасное в своей обыденной безысходности… Поразительно то, как не раз показывает Достоевский, что эта внутренняя пустота, внутреннее отчаяние может быть совместимо с внешней активностью, страстными спорами и столкновениями. Герой «Сна» знает это по себе, видит это и в других. Именно последнее позволяет ему снисходительно относиться к насмешкам над собою, и воздерживаться от участия в спорах. Ему все равно. Но он видит, что и спорящим также все равно, они только делают вид, что это для них очень важно, а на самом деле, если они трезво посмотрят на себя, как это и сделал однажды он сам, они вдруг увидят, что им все равно и, на самом деле, не о чем и спорить, и нет причины горячиться. Он так и говорит им прямо: «Господа, ведь вам, говорю, все равно»[7]. В ответ – только смех… Это отсутствие высот и низин в жизни поначалу тяготило героя, но постепенно он привык. Он понял, что не только сейчас все равно, но и раньше, в прошлом, также было все равно. Также и в будущем, всегда все будет равно. И перед лицом этого мертвящего свинцового равенства жизнь теряет все свои краски, теряет яркость, радость, теряет смысл: жить или не жить становится одинаково равно, и мысль о самоубийстве естественно проскальзывает в душу. Она уже не страшит, а притягивает к себе: все что-то новое…, хотя, впрочем, и это иллюзия, ведь, все равно.
3. Наука (рассудок) и корни нигилизма. Откуда берется это всеравенство ? Каковы его корни ? Ведь есть же детство, юность, когда жизнь кажется таким многообещающим предприятием, когда каждый день несет новые открытия и новые обещания. Достоевский последнего десятилетия своей жизни глубоко убежден, что генезис нигилизма тесно связан с пафосом научной истины. Наука второй половины XIX столетия вдохновляется успехами математического естествознания, механики. Методы последней стремятся перенести и на всю науку, на исследование живого, и человека, в частности. Господствует материализм Бюхнера и Молешотта. Человека стремятся понять просто как часть природы. Согласно материалистической философии вся духовная составляющая человека должна быть объяснена, в лучшем случае, в духе позитивизма. Человек есть такое же место игры безличных природных сил, как река, камень, лягушка. Социальные силы также поддаются, де, позитивистскому истолкованию. Марксово определение человека, как совокупности социальных отношений, подводит черту: для человеческой экзистенции просто не остается места в культуре. Эту антигуманную сущность новой культуры чуткие души уловили уже в начале XIX века. Ж.-Ж.Руссо, романтизм, С.Киркегор были реакцией на тот духовный погром, который несла новая научная цивилизация. В России Н.Н.Страхов, многолетний близкий знакомый Достоевского, последовательно развивал критику узко материалистического или позитивистского понимания науки. «Мир есть целое, имеющее центр, - писал Страхов, - именно, он есть сфера, средоточие которой составляет человек. Человек есть вершина природы, узел бытия»[8]. Достоевский по своему также участвует в этой традиции, продолжает ее критику. Он основывает ее на том, что само понимание истины потеряло экзистенциальное измерение. Истина человека, сведенная к математической формуле не может никого подвинуть на самопожертвование или подвиг. Формальная истина науки обесценивала все человеческие чувства и эмоции, любовь, мужество, благоговение. Если последняя истина мира только движение материальных частиц в пустом пространстве, если последняя правда о человеке раскрывается его вскрытием на анатомическом столе, то теряют смысл все нравственные понятия – зло, добро, грех, преступление, - все это только человеческие, «слишком человеческие имена», все это только лишь эпифеномены.
Достоевский всем своим творчеством, как художественным, так и публицистическим восставал против подобного понимания. И дело не в том, что он не признавал достижений науки. К науке нужно относиться трезво и видеть, что она предприятие развивающееся, никогда не говорящая своего последнего слова. Но совершенно недопустимо, исходя из последних теорий естествознания, - которые и сами то еще отнюдь не всем научным сообществом приняты, - пытаться устранить всю вековую гуманитарную культуру, дающую смысл человеческому существованию, гарантирующую полноценную социальную жизнь.
Еще более опасна идеология науки, вера в науку, которая считает, что все знание человеческое должно быть представлено в научной форме, которая от всего требует доказательств. Эта научная идеология беспощадно разрушает все традиционные ценности, на которых веками стояла человеческая жизнь, и прежде всего, религию, веру христианскую. Но нельзя все доказать и все вывести, как подчеркивал еще Б.Паскаль, один из основателей новоевропейской научной традиции, и отсутствие доказательств отнюдь не повод для отказа от традиционной системы ценностей. И вообще, как глубоко осознала это философская критика в XX столетии, само существование науки тесно связано со множеством недоказанных предпосылок и, так называемых, «предрассудков»[9], а ценностные системы утверждаются в человеческой культуре совсем по другим принципам, чем истины математического естествознания в науке. Как показывала жизнь и как нередко демонстрировал своими героями Достоевский, эта вера в науку могла прекрасно совмещаться с дилетантством, с высшей степени поверхностным знанием самой этой науки. Немало страниц у Достоевского посвящено критике этой полунауки, научной идеологии, сформировавшейся нередко только лишь под влиянием газетного чтения. Шатов в «Бесах», говорит об этом: «Никогда разум не в силах был определить зло и добро или даже отделить зло от добра, хотя приблизительно; напротив, всегда позорно и жалко смешивал; наука же давала разрешения кулачные. В особенности этим отличалась полунаука, самый страшный бич человечества, хуже мора, голода и войны, неизвестный до нынешняго столетия. Полунаука – это деспот, каких еще не приходило до сих пор никогда. Деспот, имеющий своих жрецов и рабов, деспот, пред которым все преклонилось с любовью и с суеверием, до сих пор немыслимым, пред которым трепещет даже сама наука и постыдно потакает ему»[10]. Научная идеология, распространяемая во времена Достоевского через газеты и журналы, а позже и через другие средства массовой информации, безжалостно и безрассудно разрушала веру людей в традиционные, в частности, религиозные ценности. Если человек сам не занимался всерьез наукой и не мог оценить ее действительных успехов и ее границ, то он оказывался в ситуации, когда все абсолютные ценности были разрушены пафосом научного скепсиса, а те ценности, которые оставались, были в атмосфере этого преклонения перед научным доказательством предельно релятивизированы. Все становилось относительным - мораль, религия, добро, зло, - все, таким же относительным, как относительно само научное знание… Но если все относительно, начинали сомневаться наиболее проницательные, вроде тех идеологов – одиночек, которых мы встречаем на страницах Достоевского, то может быть и вообще нет никаких иерархий, никакой разницы между высоким и низким, и все равно ?.. Так, вера в науку убивала веру в традиционные ценности и, даже, веру в жизнь. И хотя параллельно с развитием науки шла несомненная нравственная деградация европейского человечества, о которой предупреждал еще Руссо, и принесшая столь очевидные плоды уже в наши дни, тем не менее, вера в науку была непоколебима. В «Сне смешного человека» жители воображаемой планеты после своего грехопадения (развращения), осознавая всю трагичность своего положения говорят: «Пусть мы лживы, злы и несправедливы, мы знаем это и плачем об этом и мучим себя за это сами, и истязаем себя и наказываем больше, чем даже, может быть, тот милосердный Судья, который будет судить нас и имени которого мы не знаем. Но у нас есть наука, и через нее мы отыщем вновь истину, но примем ее уже сознательно. Знание выше чувства, сознание жизни – выше жизни. Наука даст нам премудрость, премудрость откроет законы, а знание законов счастья – выше счастья»[11]. «Вот что говорили они, -пишет Достоевский, - и после слов таких каждый возлюбил себя больше всех, да и не могли они иначе сделать. Каждый стал столь ревнив к своей личности, что изо всех сил старался лишь унизить и умалить ее в других, и в том жизнь свою полагал»[12].
4. Нравственный опыт как сингулярность. Наука не постигает всех глубин человеческой жизни, которые открываются через непосредственный духовный опыт человека, убежден Достоевский. Вот, и в обсуждаемом рассказе герой его, уже казалось бы дошедший до самых безжизненных глубин нигилизма, все казалось бы испытавший и во всем изверившийся, прямо решившийся ближайшей ночью застрелиться из заранее приобретенного револьвера, оказывается вдруг остановлен неожиданным обстоятельством: проснувшейся в нем жалостью к плачущему ребенку. «Девочка была лет восьми, в платочке и в одном платьишке, вся мокрая [напомним, на улице ноябрьский петербургский дождь, - В.К.], но я запомнил особенно ее мокрые разорванные башмаки и теперь помню. Они мне особенно мелькнули в глаза. Она вдруг стала дергать меня за локоть и звать… Она была от чего-то в ужасе и кричала отчаянно: «Мамочка ! Мамочка !»…Хоть она и не договаривала слова, но я понял, что ее мать где-то помирает, или что-то там с ними случилось, и она выбежала позвать кого-то, найти что-то, чтоб помочь маме»[13]. Герой прогнал девочку от себя, более того, накричал на нее, однако, отогнать мысли о ней уже не может. Контрапунктом к этим его мыслям за тонкой перегородкой, отделяющей его бедную чердачную комнату от соседей, «идет содом». Живущий там отставной капитан уже третий день пьет водку, играет в карты и, время от времени, дерется со своими сотоварищами. Но все это не задевает нашего героя, почти незаметно проходит мимо его сознания. Герой «Сна» уже очень далек от позиции, в которой высказывают какие-либо моральные претензии к себе или к окружающим. Ведь ему все равно: «…капитан во весь месяц, с тех пор как живет у нас, не возбудил во мне никакой досады»[14]. Но вот от мыслей о девочке, которую он оттолкнул, которой он не помог, наш герой никак отвязаться не может. Почему ? Речь идет совсем не о жалости к этой бедной девочке, жалости, на которую герой способен, как он и сам признается, но дело не в этом. Его мучает отнюдь не раскаянье за свой поступок, что он оттолкнул эту несчастную. Все это, так сказать, эмпирия жизни, которая, хотя и существует в душе героя в определенной степени, но однако, уже давно переоценена: ведь, на самом деле, все равно. Героя мучает не эмпирия, а онтология происходящего, упрямый чисто теоретический вопрос: как на фоне этого господствующего всеравенства вообще возможно чувство жалости, или чувство раскаинья ?.. Этот умственный эксперимент, который герой рассказа производит на самом себе, усугубляется еще и тем, что он, размышляя об этом в своей чердачной комнате, под пьяный шум, доносящийся из-за перегородки, уже твердо решил этой ночью покончить с собой. «…Неужели сознание о том, что я сейчас совершенно не буду существовать, а стало быть, и ничто не будет существовать, не могло иметь ни малейшего влияния ни на чувство жалости к девочке, ни на чувство стыда после сделанной подлости ? Ведь я потому-то и затопал и закричал диким голосом на несчастного ребенка, что, «дескать, не только вот не чувствую жалости, но если и бесчеловечную подлость сделаю, то теперь могу, потому что через два часа все угаснет»[15]. Причем, подчеркивает Достоевский, речь идет не просто об уничтожении одного самосознания в результате самоубийства. Ведь решающих аргументов против солипсизма не нашел никто, не знаем и мы их сегодня. Может быть, мир зависит от меня не только как восприятие, но и онтологически: и если меня не будет, то и мира не будет. И неужели вся эта онтология бессильна перед мыслью о «слезинке ребенка»?.. Умственный эксперимент героя переходит в новую фазу. Он задает себе вопрос: а что если бы я на Луне или на Марсе совершил бы «какой-нибудь самый срамный и бесчестный поступок», был бы там за него поруган и обесчещен, то потом, живя на Земле, на которой по условию не было бы никакой связи с прежней жизнью на других планетах, было ли бы мне стыдно за этот проступок, или же было бы все равно ?[16] Герой остро ощущает видимую праздность этих вопросов перед тем шагом, на который он решился. Это бесит его, это отдаляет решающий момент самоубийства, утомляет героя и он, неожиданно для самого себя, засыпает. «Одним словом, - говорит он впоследствии, - эта девочка спасла меня, потому что я вопросами отдалил выстрел»[17].
Что же происходит ? В жизни героя с почти нулевой нравственной температурой, во всем этом всеравенстве, не нарушаемом даже решением убить себя, вдруг обнаруживается, говоря языком физики[18], сингулярность, не сводимая к той нравственной нейтральности, вне которой, кажется, уже ничего и не существует. И эта закатанная в асфальт нигилизма жизнь вдруг обнаруживает способность давать новые ростки. Правда, лишь чахлые и хилые, поначалу. Ведь, чувство жалости к девочке, которое герой испытал, не подвинуло его на то, чтобы помочь ей. Однако, оно сразу же породило реакцию его разума: Как это возможно, если все равно ? Как на фоне этой полной однородности нигилизма возможна сингулярность нравственного движения ?..И разум его, как хирург – паталогоанатом, рассекающий еще почти живые ткани, в недоумении анализирует и разлагает этот невозможный факт душевной жизни: как возможно, будучи нравственно мертвым, еще оставаться живым ?.. Вывод один: значит, разум лжет, вывод о всеравенстве поспешен, значит, есть опыт сердца, опровергающий это самоубийственное безразличие жизни. Как позже говорил известный русский философ В.С.Соловьев, близкий знакомый Достоевского в последнее десятилетие его жизни, «Стыжусь, значит существую !»[19] И этот вывод есть прелюдия «сна», который видит наш герой, сна, обнаруживающего новые глубины опыта сердца. Так ли уж важно, что мы видим во сне ? «Ну и пусть сон, и пусть, но эту жизнь, которую вы так превозносите, я хотел погасить самоубийством, а сон мой, сон мой, - о, он возвестил мне новую, великую, обновленную, сильную жизнь ![20]»
5. «Сны моего сердца, мечты моего ума…» Герою «Сна» снится как он выстрелил себе в сердце, как его похоронили, как он пришел в себя похороненный в гробу, - мы еще вернемся ниже к анализу этих мест. Но вот он чувствует как могила его разверзлась и он был взят из нее «каким-то темным и неизвестным существом». Таинственное существо это несет его через пространства в неизвестные дали вселенной, но вот, вдруг, герой обнаруживает, что они приближаются к нашей солнечной системе и к Земле, на которой он различает уже знакомые очерки континентов. Таинственный спутник оставляет героя и он оказывается … на нашей Земле, но с единственным отличием: в ее истории люди не совершили грехопадения, - оказывается в «Золотом веке». Писатель не жалеет красок для описания этой жизни безгрешного человечества. «О, все было точно также, как у нас, но, казалось, всюду сияло каким-то праздником и великим, святым и достигнутым наконец торжеством. Ласковое изумрудное море тихо плескалось о берега и лобызало их с любовью, явной, видимой, почти сознательной. Высокие, прекрасные деревья стояли во всей роскоши своего цвета, а бесчисленные листочки их, я убежден в том, приветствовали меня тихим, ласковым своим шумом и как-бы выговаривали какие-то слова любви. Мурава горела яркими ароматными цветами. Птички стадами перелетали в воздухе и, не боясь меня, садились мне на плечи и на руки и радостно били меня своими милыми, трепетными крылышками. И наконец, я увидел и узнал людей счастливой земли этой. Они пришли ко мне сами, они окружили меня, целовали меня. Дети солнца, дети своего солнца. – о, как они были прекрасны ! Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты в человеке. Разве лишь в детях наших, в самые первые годы их возраста, можно бы было найти отдаленный, хотя и слабый отблеск красоты этой. Глаза этих счастливых людей сверкали ясным блеском. Лица их сияли разумом и каким-то восполнившемся уже до спокойствия сознанием, но лица эти были веселы; в словах и голосах этих людей звучала детская радость»[21]. В обществе их господствовала любовь, они любовались друг другом, слагали песни друг о друге, «…это была какая-то влюбленность друг в друга, всецелая и всеобщая»[22]. Эта любовь изливается и на нашего героя: «Эти люди, радостно смеясь, теснились ко мне и ласкали меня; они увели меня к себе, и всякому из них хотелось успокоить меня. О, они не расспрашивали меня ни о чем, но как бы все уже знали, так мне казалось, и им хотелось согнать поскорее страдание с лица моего»[23]. Эта любовь отражалась и в сердце нашего героя: «Я… целовал при них ту землю, на которой они жили, и без слов обожал их самих, и они видели это и давали себя обожать, не стыдясь, что я их обожаю, потому что много любили сами»[24].
Достоевский подчеркивает то, что в этом Золотом веке не было науки, в нашем понимании. Герой рассказа поначалу, даже не понимает как это возможно. Но вскоре ему становится ясно, «…что знание их восполнялось и питалось иными проникновениями, чем у нас на земле… Знание их было глубже и высшее, чем у нашей науки; ибо наука наша ищет объяснить, что такое жизнь, сама стремится сознать ее, чтоб научить других жить; они же и без науки знали, как им жить, и это я понял, но я не мог понять их знания». Достоевский рисует мир, в котором знание, наука имеют интуитивный характер, характер прямого проникновения в сущность вещей, без дискурсивных построений, без доказательств[25]. Люди Золотого века понимали растения, животных, как бы зная их язык, и даже «…соприкасались с небесными звездами, не мыслию только, а каким-то живым путем»[26]. Герой все более осознает это внутреннее проникновение этих людей в тайны жизни и бытия, но понять его не может. Для выражения этой полноты жизни Достоевский часто употребляет здесь слово восполненный, из церковно-славянского языка, которое почти и не используется в современном русском: восполненное знание, восполнившийся восторг, восполненная радость и т.д. У человечества Золотого века была любовь, у них рождались дети, которые становились новыми участниками в их блаженстве, но не было ссор и ревности, и «…никогда я не замечал в них порывов того жестокого сладострастия, которое постигает почти всех на нашей земле, всех и каждого, и служит единственным источником почти всех грехов нашего человечества»[27]. Старики их умирали тихо и спокойно, здесь не было скорби, «…а была лишь умножившаяся как бы до восторга любовь, но до восторга спокойного, восполнившегося, созерцательного[28]». Слова прекрасных песен, которые поют жители этой новой (старой ?) земли, нередко, непонятны герою, не позволяют ему проникнуть в полноту их значения, но сердце его все более открывается этому миру, видя в нем воплощение своих самых заветных надежд. «Я часто говорил им, что я все это давно уже предчувствовал, что вся эта радость и слава сказывалась мне еще на нашей земле зовущею тоскою, доходившей подчас до нестерпимой скорби; что я предчувствовал всех их и славу их в снах моего сердца и в мечтах ума моего…»[29] Наш герой, проповедующий нравы Золотого века и подвергаемый насмешкам, готов даже и согласиться, что все это было лишь сном, детали которого он сам потом и выдумал, но сон этот имеет такое высокое нравственное значение, что он просто не может не рассказывать о нем: «Было, может быть, в тысячу раз лучше, светлее и радостнее, чем я рассказываю. Пусть это сон, но все это не могло не быть»[30].
6. Свобода и подполье. Вот мы и добрались до главного вопроса нашей статьи, объявленного вначале: почему же герой «Сна», столь восторженно поклоняясь явленному ему образу Золотого века, обожая чистых и безгрешных людей этого мира, тем не менее «… развратил их всех !»[31] Само это событие понимается героем как некое откровение, несомненно свидетельствующее о своей истине. Более того, вероятно, свидетельствующее не только о значимости сна, но и о том, что все происшедшее действительно произошло, а не просто приснилось. «Знаете ли, я скажу вам секрет, - говорит наш герой, - все это, быть может, было вовсе не сон ! Ибо тут случилось нечто такое, нечто до такого ужаса истинное, что это не могло бы пригрезиться во сне. Пусть сон мой породило сердце мое, но разве одно сердце мое в силах было породить ту ужасную правду, которая потом случилась со мной ? Как бы мог я ее один выдумать или пригрезить сердцем ? Неужели же мелкое сердце мое и капризный, ничтожный ум мой могли возвыситься до такого откровения правды !»[32] В чем же состоит эта ужасная правда ? В том ли только, что зло имеет корни в нашем же человеческом сердце, и что сердце испорченное отравляет все и вокруг себя, «…как скверная трихина, как атом чумы, заражающий целые государства»[33]?.. В том ли, что зло не пришло к нам извне, а всегда воспроизводится в глубине нашего же человеческого сердца и передается от поколения к поколению ? Все это, несомненно верно, но почему же герой наш, развратив целый мир, восклицает: « Я ходил между ними, ломая руки, и плакал над ними, но любил их, может быть еще больше, чем прежде, когда на лицах их еще не было страдания и когда они были невинны и столь прекрасны. Я полюбил их оскверненную ими землю еще больше, чем когда она была раем, за то лишь, что на ней явилось горе [курсив мой – В.К.]»[34]. Чем же эта оскверненная земля, эти развращенные люди могут быть дороже, могут вызывать большую любовь, чем жизнь Золотого века ?.. Попытаемся ответить на эти непростые вопросы.
Вообще говоря, ответы на эти вопросы можно отчасти обнаружить в гораздо более раннем произведении Достоевского, в знаменитых «Записках из подполья», вышедших в 1864 году. Именно здесь великий писатель дает тот образ «человека из подполья», который потом не раз встречается на страницах его творчества, черты которого мы узнаем и в Раскольникове, и в Ставрогине, и в Иване Карамазове и многих других. Духовная конституция героя «Сна смешного человека», - рассказа, написанного через 13 лет после «Записок», - во многом тождественна с героем «Записок»; добавлены только некоторые новые моменты, характеризующие больший духовный возраст героя «Сна». «Я человек больной… Я злой человек. Непривлекательный я человек», - такими словами начинаются «Записки из подполья»[35]. Контрапунктом к ним звучит и начало «Сна смешного человека»: «Я смешной человек. Они меня называют теперь сумасшедшим»[36]. Все то же одиночество, все та же гордыня… Но герой «Сна», как мы уже сказали, несколько духовно старше: если тон подпольного человека более публицистичен, он обращен к окружающим, он стремится преодолеть их аргументы своими аргументами, он стремится найти какие – то контакты с окружающими, то герой «Сна» (до своего перерождения) уже «подустал», и психологически и духовно, - никому ничего доказать нельзя, всегда все равно, и он в основном молчит в обществе товарищей, или же с безразличной резиньяцией высказывает им: «Господа, ведь вам, говорю, все равно». На что и господа, даже и не обиделись, а только засмеялись[37]… Диалог и вызовы главного героя в «Сне» с уровня публицистического и психологического ушли на более глубокий уровень философии и метафизики. И это неудивительно, ведь «Сон» написан уже после «Идиота»(1868), «Бесов»(1872), «Бобка»(1873) и «Подростка»(1875).
Герой «из подполья» был ценен Достоевскому тем, что в нем он высказал свои самые заветные и фундаментальные представления о человеке, о человеке вообще и о русском человеке, в особенности. Говоря языком средневековой философии, антропология Достоевского принципиально волюнтаристична. Определяющим началом в человеке, в его поступках писатель считает волю. В том была, - и осталась ! - непреходящая оригинальность взглядов и героев Достоевского, что во время, когда европейская культура все более соблазнялась успехами научного знания, как в естествознании, так и в познании общества, когда пропаганда социалистических идей все более подавалась как результат научного изучения истории, как «научный социализм», Достоевский и философски, и как писатель отстаивал концепцию человека, центрированную на понятии воли. Он спорил здесь со всей традицией Просвещения, с французскими энциклопедистами, с родоначальниками социализма, а на русской почве – с кумирами общественного сознания 60 – 70 годов: Чернышевским, Добролюбовым, Писаревым. В частности, если представители теории «разумного эгоизма», выдуманной Чернышевским, доказывали, что человек, просвещенный знанием законов исторического развития, сам, без всякого принуждения, на чисто разумных основаниях откажется от эксплуатации ближнего, от причинения ему зла, откажется от прежней порочной жизни и будет честно трудиться ради общей пользы и благосостояния, то Достоевский настойчиво доказывал, что подобные взгляды есть в высшей степени наивное и поверхностное представление о человеке. Герой «Записок из подполья» беспощадно, порой до карикатурности критикует эти просвещенческие мифы. Он доказывает, что никакими сияющими перспективами социализма человеческую свободную волю «не заговорить», что никакие призывы к благоразумию не смогут перевесить фундаментальную ценность человеческой свободы и волю, желания поступать из свободы. Критикуя утопию общества, построенного на основе науки и благоразумия, он пишет: «Тогда-то, - это все вы говорите, - настанут новые экономические отношения, совсем уж готовые и тоже вычисленные с математическою точностию… Тогда выстроится хрустальный дворец… [Но – В.К.] Ведь я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой – нибудь джентльмен с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливою физиономией, упрет руки в бока и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с тою целью, чтоб все эти логарифмы отправились к черту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить ! Это бы еще ничего, но обидно то, что непременно последователей найдет: так человек устроен. И все это от самой пустейшей причины, о которой бы, кажется, и упоминать не стоит: именно от того, что человек всегда и везде, кто бы он ни был, любил действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода; хотеть же можно и против собственной выгоды, а иногда и положительно должно…»[38] Подобное эксцентричное противопоставление разума и воли нуждается, конечно, в объяснении. Почему же столь неразумное гнушение разумом, человеческой выгодой, расчетом ? Достоевский считал, что причина, породившая «человека из подполья» - быстрота и насильственность Петровских реформ и связанных с ними социальных трансформаций. Старые начала, православные начала Московской Руси были изгнаны, а новые, западноевропейские усвоены наспех и поверхностно. Традиции разумного, целесообразного, цивилизованного устройства общества не стали еще общепринятыми, а вера уже ослабла, и … явился человек из подполья. «Причина подполья, - пишет Достоевский в черновиках к роману «Подростку», - уничтожение веры в общие правила. «Нет ничего святого». Недоконченные люди (вследствии Петровск<ой> реформы вообще)…»[39]
Продолжим, однако, анализ позиции подпольного человека, как она выступает в «Записках». Герой их отнюдь не отрицает значения разума вообще, он только призывает правильно расставлять акценты, и не рассматривать разумное начало в человеке как высшее и определяющее. «Видите ли-с: рассудок, господа, есть вещь хорошая, это бесспорно, но рассудок есть только рассудок и удовлетворяет только рассудочной способности человека, а хотенье есть проявление всей жизни, то есть всей человеческой жизни, и с рассудком, и со всеми почесываниями. И хоть жизнь наша в этом проявлении выходит зачастую дрянцо, но все – таки жизнь, а не одно только извлечение квадратного корня»[40]. Герой из подполья согласен, что чем более человек развит, тем более он стремиться обдумывать свои поступки, а не действовать непосредственно под влиянием голого хотения, что чем более он развит, то тем более учитывает он в своих поступках соображения выгоды. «Но повторяю вам в сотый раз, есть один только случай, только один, когда человек может нарочно, сознательно пожелать себе даже вредного, глупого, даже глупейшего, а именно: чтоб иметь право пожелать себе даже и глупейшего и не быть связанным обязанностью желать себе одного только умного. Ведь это глупейшее, ведь этот свой каприз… может быть выгоднее всех выгод даже и в таком случае, если приносит нам явный вред и противоречит самым здравым заключениям нашего рассудка о выгодах, - потому что во всяком случае сохраняет нам самое главное и самое дорогое, то есть нашу личность и нашу индивидуальность [жирный курсив мой – В.К.]»[41]. Центр нашей личности, согласно этой антропологии, находится в воле. В воле, которая, по факту – то, сплошь и рядом может желать неразумного. Можно было бы сказать, что это поврежденная, больная воля. Так оно и есть, вообще говоря, с христианской точки зрения. Апостол Павел пишет об этой неразумности воли грешного человека: «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек ! кто избавит меня от сего тела смерти ?» (Рим. 7:22-24)
Однако, рассуждения героя Достоевского отнюдь не центрированы на христианской антропологии. И на осуждение в болезни воли герой Достоевского мог бы ответить: «А почем вы знаете, какая воля больная, а какая здоровая ?.. И как ее лечить ?» Эту задачу исцеления своей больной воли герои Достоевского лишь постепенно осознают через опыт страдания, а то и преступления… Тем не менее аргументы против рационалистических утопий Просвещения и коммунизма, аргументы от воли, от свободы, столь ярко представленные в произведениях Достоевского, остаются верными навсегда. Человек сотворен свободным, со свободной волей и спасен он должен быть только вместе со своей свободой, а никак не жертвуя ей ради каких – либо идолов, пусть это даже есть разум. Человек не просто фортепьянная клавиша, на которой играют законы природы, утверждает Достоевский, и никогда не согласится быть фортепьянной клавишей. «Да ведь мало того: даже в том случае, если бы он действительно оказался бы фортепьянной клавишей, если б это доказать ему даже естественными науками и математически, так и тут не образумится, а нарочно напротив что – нибудь сделает, единственно из одной неблагодарности; собственно чтоб настоять на своем. А в том случае, если средств у него не окажется, - выдумает разрушение и хаос, выдумает разные страдания и настоит – таки на своем»[42]. Вот, мы уже и совсем близко к объяснению, или скорее, к
у-яснению нашего главного вопроса, вынесенного из чтения «Сна смешного человека».
7. Свобода и идеал. Действительно, подобия в основных ценностных установках героев «Записок из подполья» и «Сна смешного человека» так велики, что можно сказать: то, что развернуто в рассказ «Сон смешного человека» имеет своей программной, теоретической основой первую часть «Записок из подполья». Почти все фундаментальные темы «Сна», все решающие повороты сюжета находят себе обоснование в рассуждениях парадоксалиста из подполья. Герой сна развратил всех в «Золотом веке», разрушил целую цивилизацию. Но в «Записках» подробно выясняется эта наклонность человека к разрушению, ее глубинные духовные основы. Читаем здесь: «Человек любит созидать и дороги прокладывать, это бесспорно. Но отчего же он до страсти любит тоже разрушение и хаос ? Вот это скажите – ка ! Но об этом мне самому хочется заявить два слова особо. Не потому ли, может быть, он так любит разрушение и хаос (ведь это бесспорно, что он иногда очень любит, это уж так), что сам инстинктивно боится достигнуть цели и довершить созидаемое здание ? Почем вы знаете, может быть, он здание – то любит только издали, а отнюдь не вблизи; может быть, он только любит созидать его, а не жить в нем, предоставляя его потом aux animaux domestiques [домашним животным, франц.- В.К.], как – то муравьям, баранам и проч., и проч. Вот муравьи совершенно другого вкуса…»[43] Критике социалистического муравейника и в том смысле, как он рисовался утопистами вроде Чернышевского, и в более принципиальном смысле, как противоречащего самой природе человека, посвящено у Достоевского немало страниц, в том числе и в «Записках из подполья». В нашу задачу не входит сейчас анализировать эту критику. Для нас важно подчеркнуть в приведенной цитате другой важнейший момент: по мысли Достоевского, человек, хотя и проектирует беспрерывно «светлое будущее» и «хрустальные дворцы» в нем, однако, при всем при этом, сам оказывается глубоко неудовлетворен своими же прожектами… «И кто знает (поручиться нельзя), может быть, что и вся-то цель на земле, к которой человечество стремится, только и заключается в одной этой беспрерывности процесса достижения, иначе сказать – в самой жизни, а не собственно в цели, которая, разумеется, должна быть не иное что, как дважды два четыре, то есть формула, а ведь дважды два четыре есть уже не жизнь, господа, а начало смерти. По крайней мере человек всегда как – то боялся этого дважды два четыре, а я и теперь боюсь. Положим, человек только и делает, что отыскивает эти дважды два четыре, океаны переплывает, жизнью жертвует в этом отыскивании, но отыскать, действительно найти, - ей-богу, как-то боится. Ведь он чувствует, что как найдет, так уж нечего будет тогда отыскивать»[44]. Достоевский фиксирует здесь человеческую особенность, имеющую глубочайшее духовное значение. Сколько ни существует человечество в своей истории, всегда оно мечтало о лучшем общественном устройстве, об обществе, в котором господствовали бы справедливость и добрые отношения между людьми. Множество общественных программ, политических манифестов, философских проектов создавалось ради реализации этой мечты; они стремились рассчитать, конкретизировать, а то и художественно представить то общественное устройство, на утверждение которого нужно было направить усилия. Люди пропагандировали эти проекты, боролись за их осуществление, отдавали за них жизнь… Некоторые проекты действительно воплощались, еще чаще, уже существовавшую действительность объявляли воплощением подобного совершенного проекта. Однако, никогда человек не был удовлетворен. Никогда это воплощение не совпадало с его мечтою. И даже более того, удивительная тенденция выявлялась все настойчивее: чем справедливее, чем ярче был проект, тем, странным образом, бесчеловечнее и жесточе была реализация… Достоевский прав, этот опыт не прошел даром для человечества. И хотя недостатка в новых прожектерах и революционерах, готовых идти на крест за свои утопии, не наблюдалось, тем не менее, груз отрицательного опыта отрезвлял головы наиболее мудрых… Тот вывод, который человечество выстрадало горьким опытом исторического строительства и исторического прожектерства, можно бы было сформулировать так: несмотря на неизбежность общественного планирования в истории, ибо человек по своей сущности уже есть существо проективное, всякая попытка объявить некоторое социальное устройство окончательно справедливым, истинным, окончательно соответствующим сущности человеческого идеала является не только утопичной, но и всегда этот идеал предающей, представляет собой всегда подмену этого идеала какой-то подделкой под него, идолом, воплощение которого в жизнь, в силу этого, будет на его решающих этапах всегда антигуманным и насильственным. Это не значит, что человек должен совсем отказаться от переустройства социального мира, от политики, от идейной борьбы. Но это значит, что все цели, выдвигаемые идеологами и политиками, имеют лишь конечное, и стало быть, преходящее значение и не могут рассматриваться как окончательное решение социальных и человеческих проблем, не могут рассматриваться как спасение человечества. Замечательный русский социолог и философ политики П.И.Новгородцев писал в своей статье «О своеобразных элементах русской философии права» в отношении этого: «Мы не вправе ожидать, что когда-либо на земле настанет такое совершенство и такая гармония, которая преодолела бы все жизненные противоречия в совершенной общественной форме. Для человеческих сил эти противоречия непримиримы и непреодолимы. Личность и общество, равенство и свобода, право и нравственность, - поскольку они движутся в рамках исторического развития и человеческих возможностей, - находятся в вечном антагонизме и не допускают окончательного примирения. Лишь будучи пронизаны высшим светом божественной благодати, лишь в последние дни мира, как всеобщей гармонии, какой требует евангельски – христианский закон, лишь в конце мира может быть мыслимо подобное примирение. Не естественным развитием человеческих отношений, а их чудесным перерывом, катастрофой и спасением мира мыслится в русских религиозно - философских инспирациях разрешение социальных противоречий»[45]. Катастрофа и спасение мира понимаются здесь именно в соответствии с христианской эсхатологией.
Именно этот пафос движет Достоевским в «Сне смешного человека». Герой его увидев, пережив опыт «Золотого века», «развратил» всех его жителей. Почему, по какой причине ?.. Самое любопытное, что герой даже сам не может себе дать в этом отчета ! Он подробно рассказывает о том, как развивалась «чума» безнравственности в этом обществе, - ложь, кокетство, сладострастие, ревность, жестокость, убийство и т.д., - но назвать решающую причину, толкнувшую его на это преступление, так и не может. Он, де, любил страдание, и со страданием он любил этих людей больше, чем прежде, счастливых и добродетельных ?.. Мы обсудим тему страдания немного ниже, но тем не менее, разве можно согласиться с тем, что ради страдания только стоит пожертвовать всем миром любви и красоты ?.. Разве стремление преодолеть страдания, устранить их из жизни человечества не является одним из благороднейших побуждений человеческой деятельности в истории ? Герой «Сна» критикует знание в его научной форме, от начала до самого конца рассказа, - « «Сознание жизни выше жизни, знание законов счастья – выше счастья» - вот с чем надо бороться ! И буду !»[46] - и тем не менее, сам ниспровергает всю ту культуру интуитивного постижения жизни, которая господствовала в «Золотом веке». Предельность противоречивой позиции героя обнаруживается в том, что он, сам разрушив «Золотой век», идет его же и проповедывать !?.. «Сон ? что такое сон ? А наша – то жизнь не сон ? Больше скажу: пусть, пусть это никогда не сбудется и не бывать раю (ведь уже это – то я понимаю !), - ну, а я все – таки буду проповедывать. А между тем так это просто: в один бы день, в один бы час – все бы сразу устроилось ! Главное – люби других как себя, вот что главное, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь как устроиться [жирный курсив мой – В.К.]»[47]. Герой понимает, что раю не бывать, и тем не менее сам идет его проповедывать. Он что, хочет еще раз попробовать построить «Золотой век» и потом… и потом опять их всех «развратить» ?.. Воистину, как говорил парадоксалист из подполья: «Достижение [целей – В.К.] он любит, а достигнуть уж и не совсем, и это, конечно, ужасно смешно. Одним словом, человек устроен комически; во всем этом, очевидно, заключается каламбур»[48].
Герой сна не может дать себе отчет в причине его неприятия «Золотого века». А сам Достоевский, дает ли он нам объяснение этого парадокса ? – Не думаю. Здесь необходимо небольшое методологическое отступление. Настоящий художник, в частности, писатель, это не тот, кто может объяснить, свое произведение. И настоящее художественное произведение это не то, что можно объяснить, что может быть сведено к какой – то философеме, к какому – то логическому содержанию. Конечно, в литературе есть различные жанры, в частности, и жанр басни, содержание которой можно выразить в виде некоторой морали. Однако, художественное произведение, художественный образ в собственном смысле не могут быть сведены к такой морали. Не мораль, не логическое содержание определяют здесь действительный смысл образа. Художественный образ, созданный писателем, постигается непосредственно и оказывается далее неразложимым, в силу органической сложности своих внутренних связей. Не что – то иное, в частности логика, объясняет нам этот образ, а наоборот: сам этот образ становится новым словом объяснения действительности, новым инструментом познания ее, новым термином жизненной логики. Все в искусстве, в литературе, что может быть объяснено, еще не художественное творение в собственном сиысле. Но когда мы говорим, «фаустовский дух», «есенинские мотивы», «Вини Пух», «человек из подполья», мы аппелируем именно к целостному образу, созданному художником, образу, который уже вошел в культуру как ее законный конститутивный член, и служит познанию и анализу действительности. Если угодно, можно бы было, согласно известной философской традиции, называть эти образы архетипами.
Достоевский принадлежал к писателям, воистину, милостью Божией. И ему была дана способность создавать подобные образы. Сам он прекрасно осознавал фундаментальность собственных размышлений о человеке, которая не исчерпывалась ни психологическим контекстом, ни социологией, ни этнографическими особенностями русского народа. Он, как известно, называл себя реалистом в высшем смысле: «Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой»[49]. Так, «человека из подполья» он считал одним из главных своих открытий[50]. В этих своих исследованиях человеческой души, проводимой на жизненных судьбах своих героев, Достоевский нередко натыкался на примеры удивительных противоречий, которыми полна человеческая жизнь. Эти реальные противоречия он умел изображать и анализировать. Поэтому Достоевский, конечно, по справедливости может быть назван исследователем и философом. Обычно там, где он понимал, он выговаривал это свое понимание и в художественной форме и в публицистике. Достоевский выговаривает все, что он знает. Но замечательно то, что ему удавалось изображение таких глубин человеческого духа, таких противоречий, которые этого объяснения не допускают, хотя сомнения в действительной значимости опыта этих глубин, этих проклятых вопросов не оставалось. Писатель глубоко чувствовал и умел гениально изображать, что есть множество событий, смысл и генезис которых непонятен, но которые играют решающую роль в жизни; что в жизни человеческой есть тайна, недоступная человеческому рассудку[51]. Поэтому он совершенно сознательно часто использует для обозначения этих моментов выражение «не знаю». Так, в начале рассказа, герой, купив револьвер, ждет минуты, когда сможет пустить его в дело, убить себя, однако, «…прошло уже два месяца, а он все лежал в ящике; но мне было до того все равно, что захотелось наконец улучить минуту, когда будет не так все равно, для чего так – не знаю»[52]. Но вот, в дождливый ноябрьский вечер, в разрыве облаков он увидел звездочку, «… и я положил, что это [самоубийство – В.К.] будет непременно уже в эту ночь. А почему звездочка дала мысль – не знаю»[53]. После пробуждения от сна герой начинает свою проповедь. «Кроме того, - восклицает он, - люблю всех, которые надо мной смеются, больше всех остальных. Почему это так – не знаю и не могу объяснить, но пусть так и будет»[54].
Та фундаментальная антиномия в «Сне смешного человека», которую мы описывали выше, формально также принадлежит к одному из таких «не знаю», хотя содержательно является одним из важнейших открытий великого писателя. Достоевский, по нашему мнению, сам, также как и его герой, не знает принципиального ответа на вопрос: почему был «развращен» мир «Золотого века». Если бы он знал этот ответ, он бы непременно высказал его… Но он его не знает, как не знает его и герой рассказа, как не знаем его и мы… Речь в литературе подобного рода идет не о какой – то загадке, которую нам загадывает писатель, и которую мы должны отгадать. Речь идет о загадке, которую нам загадывает сама жизнь, само бытие. Достоевский своим талантом только помогает нам осознать всю непостижимую глубину этой загадки: мы не можем в нашей общественной деятельности не стремиться к преодолению несправедливости и зла в этом мире, и одновременно, в глубине нашей души, мы не можем поверить в то, что когда – то в земной действительности это преодоление может быть достигнуто… Мы не можем не бороться со злом, ибо, в чем бы тогда и состояло человеческое достоинство, но, в то же время, мы не можем и пожертвовать нашей свободой ради утверждения какой – то конкретной утопии. Или, говоря словами героя «Сна»: «…я видел истину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле». Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей»[55]. Но в то же время: «..пусть это никогда не сбудется и не бывать раю (ведь уже это-то я понимаю !)…»[56] И Достоевский здесь, при всей глубине своих прозрений, остается здесь с нами, по эту сторону загадки.
Небезынтересно вспомнить здесь новозаветное решение темы видения будущего мира, Рая. Мы не будем говорить о книге «Апокалипсис», вопрос об интерпретации которой далеко не прост. Во 2 Послании к Коринфянам апостол Павел пишет о себе: «Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет (в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке (только не знаю – в теле, или вне тела: Бог знает), что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать»(2 Кор., 12:2-4). Мы видим, что описаний рая здесь нет, а то, что открылось великому апостолу, нельзя, невозможно пересказать, по возвышенной странности этих видений и речений, по отличию их от нашего мира. Об этом говорил еще пророк Исайя в Ветхом Завете: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (Ис.64,4).То откровение, которое давалось человеку в его истории отношений с Богом, не может быть адекватно передано на языке нашего земного опыта. Говорить о нем можно только апофатически. И это неслучайно, ибо само человеческое предчувствие Истины, отвечающей человеческой свободе, не позволяет свести ее до какого – то образа или понятия. От этого опыта предчувствия Истины шел и Достоевский в своем художественном творчестве. Конечно, яды утопизма еще действуют в сознании писателя и он не может как Новгородцев сказать, что не естественным развитием человеческих отношений, а их чудесным перерывом, катастрофой, то есть новым вмешательством Бога мыслится для него окончательное разрешение социальных противоречий, но тем не менее, мудрость художника, поверх всех рассуждений и модных теорий, не позволяет Достоевскому принять ту сладкую картину, которую он видит вместе со своим героем, за воплощение идеала и не позволяет ему занять место в ряду заурядных утопистов… Мы еще вернемся к этому ниже.
8. Религиозная перспектива рассказа. Под религиозной перспективой мы понимаем те предельные онтологические и эпистемологические представления, в рамках которых существует все, изображаемое в рассказе. Можно бы было назвать это и мировоззренческой перспективой. Однако, в рассказе явно ставится вопрос о спасении человечества от зла и о смысле зла, об Истине и характере коммуникации с ней, что явно связано с религиозными коннотациями, поэтому мы и предпочитаем термин религиозная перспектива. В рассказе нет слов Бог, Творец, Абсолют, и т.д., но можно, тем не менее, выделить представление о Высшей силе, господствующей в мире и, в конце концов, за все происходящее в мире ответственной. Это представление появляется впервые в сне нашего героя, когда он, похороненный после своего самоубийства, лежит в гробу. Поначалу герой ничего не чувствует, никакого ужаса от пребывания в могиле, так как и представляла это его захолодевшая в атмосфере глубокого нигилизма душа: ведь все равно… « Но вот вдруг на левый закрытый глаз мой упала просочившаяся через крышку гроба капля воды, за ней через минуту другая, затем через минуту третья, и так далее, и так далее, все через минуту»[57]. Представление об этой медленной пытке, которая будет продолжаться непонятно сколько времени, глубоко возмущает нашего героя. Ведь он только что покончил с собой, желая уйти и от обычных человеческих страданий и от бессмысленности человеческой жизни, в которой все равно ! И зачем же, только затем, чтобы подвергнуться этой новой изощренной и бессмысленной пытке ? Все это вызывает глубокое негодование в сердце героя и он, почти поневоле, бросает вызов…кому ? Герой сам не знает этого, но непроизвольный вызов его обращен, тем не менее, к некой личности. «И вдруг я воззвал, не голосом, ибо был недвижим, но всем существом моим к властителю всего того, что совершалось со мною: «Кто бы ты ни был, но если ты есть и если существует что – нибудь разумнее того, что теперь совершается, то дозволь ему быть и здесь. Если же ты мстишь мне за неразумное самоубийство мое – безобразием и нелепостью дальнейшего бытия, то знай, что никогда и никакому мучению, какое – бы ни постигло меня, не сравниться с тем презрением, которое я буду молча ощущать, хотя бы в продолжении миллионов лет мученичества !..» Я воззвал и смолк»[58]. Возглас этот, хочется даже сказать, ультиматум, в высшей степени любопытен. Герой, по видимости, не является верующим человеком. Однако, он не исключает возможности того, что мир управляем неким личным существом, «властителем всего того, что с ним совершается». Чисто логически здесь предполагаются три типа мировоззренческих горизонтов, в которых звучит возглас героя. Первый: может быть, и нет никакого Абсолюта, никакого Властителя, например, есть только безличные законы материальной природы, управляющие всей вселенной, и тогда все человеческие страдания, ценности и упования, включая и страдания живого человека, лежащего в гробу, суть только лишь эпифеномены, и вопиющая бессмысленность их также только эпифеномен, ибо последний смысл всего заключен только в движении материальных частиц в пространстве и времени и…, как говорится, обижаться не на кого. В этом мировоззренческом горизонте фактически нет никакого религиозного измерения. Второй горизонт: существует некое личное начало, стоящее над миром, и как – то ответственное за все, что в нем происходит. Это существо может быть разным, оно может быть и совершенно безучастным к судьбе человека, и бессильным перед лицом мирового зла, а то и само являться его причиной и т.д. Множество этих возможностей предоставляет нам картина мировых религий. Герой «Сна» обращается к этому гипотетическому существу с надеждой на сочувствие: если есть что-то разумнее этого унизительного и бессмысленного страдания, то пусть оно будет явлено, хотя бы, даже и в качестве какого-то объяснения этого страдания. И этот второй мировоззренческий горизонт имеет явно религиозный характер: есть надмирная сила, вносящая смысл во все существующее, сила имеющая, по видимости, - так как к ней можно обращаться с просьбами и вопросами, - личный характер. Однако, в качестве объяснения может выступать и идея загробного возмездия за совершенное в жизни, аналогично тому как понимает это христианство. Герой наш, конечно, знаком с этой концепцией и он решительно заявляет свое несогласие с ней, во всяком случае, в применении к своему случаю. Он готов согласиться, что самоубийство его неразумно, можно даже сказать, ребячески кощунственно, но… но разве вся бессмысленность его земного существования, его страдания физические и нравственные, существование зла в мире вообще не ставят вопрос об ответственности Высшего существа за все это ? Ведь это именно оно, если и не сотворило само этот мир, то во всяком случае, и не исправило его ! Разве справедливо возлагать ответственность за совершенное в жизни зло на человека, существо по определению слабое и малодушное, - во всяком случае, по сравнению с Творцом этого мира! - и подвергать его таким издевательским страданиям после смерти ?.. Короче, все классические пункты теодицеи служат для героя пунктами обвинения Высшего существа, если оно специально, в наказание подвергает его мучениям в гробу. И это есть третий мировоззренческий горизонт, также имеющий религиозный смысл, уже более традиционный, близкий к христианству (но, конечно, не только). В этом последнем случае, важно не только то, что Высшее существо предполагается личностью, с которой можно общаться, но и, в особенности, то, что герой наш как-бы вызывает эту личность на поединок: если загробные страдания суть возмездие за самоубийство, то я миллионы лет буду молча презирать тебя !.. Казалось бы несовместимые онтологические реальности – Творец или Управитель мира, одной стороны, и слабый, смертный и нравственно несостоятельный человечишка, с другой, но однако, по персоналистической логике Достоевского это не просто соизмеримые сущности, но и равные в своем отношении к Истине: объясняющая Истина высшего существа должна удовлетворять и запросам разума человека, иначе эта истина достойна презрения и, вообще, не есть Истина. Конечно, в позиции героя очень много гордыни, и мы поговорим об этом еще ниже, но вместе с этой гордыней здесь и более благородное чувство: чувство онтологического достоинства личности, способной вопрошать даже Бога. Все это относится и ко второму мировоззренческому горизонту.
Именно в рамках второго мировоззренческого горизонта и продолжается дальнейшее действие сна. Итак, есть личное Высшее существо, Творец или Промыслитель мира, или то и другое одновременно, ответственное за смысл происходящего, и есть человек, человеческая личность, стоящая перед лицом этой высшей личности и взыскующая смысла. Третий вариант не реализуется, так как на вызов героя Высшая сила не просто выносит некий вердикт, а самим дальнейшим развитием сюжета как-бы ведет с ним диалог, который должен привести героя к некой истине. Некоторое время после своего воззвания герой ждет, твердо уверенный, что ответ будет, и вот, могила разверзлась и «…я был взят каким-то темным и неизвестным мне существом, и мы очутились в пространстве»[59]. Любопытны характеристики, которые дает герой этому существу, несущему его через пространства. Оно темное, оно иногда отвечает на вопросы героя, но не всегда. Темноте этого существа соответствует «какая – то печаль»[60], звучащая в его ответах. «Я знал, - говорит герой, - что оно имело как бы лик человеческий. Странное дело, я не любил это существо, даже чувствовал глубокое отвращение. Я ждал совершенного небытия и с тем выстрелил себе в сердце. И вот я в руках существа, конечно, не человеческого, но которое есть, существует…»[61] Что же это за своеобразный «темный Вергилий», молчаливый и печальный ? Это не есть сама Высшая сила, но несомненно посланник этой Высшей силы, ангел ее. Этот темный ангел несет героя через пространства к Земле в состоянии «Золотого века», на которой герой еще глубже познает свою собственную душу, свою грешную природу. И на восторги героя, увидевшего как они приближаются к Земле был ответ: «Увидишь все, - ответил мой спутник, и какая – то печаль послышалась в его слове»[62]. Этот посланник несет не радостную весть об истине, о возможности жизни без зла, - хотя и переносит героя в «Золотой век», - а тяжелую истину о коренной греховности человека, которую не исправить никаким изменением «среды», как говорили во времена Достоевского. Как в средневековом представлении о посмертном суде за душу человека борются два ангела, один светлый и другой темный, падший, причем первый приводит записи о добрых делах, а второй о злых, совершенных умершим, так и здесь в рассказе, мы видим как – бы отражение этой идеи. Но в рассказе только темный, падший ангел несет героя, чтобы показать ему всю глубину его нравственной испорченности. И герой не любит этого вожатого, и даже чувствует к нему отвращение…
Необходимо отметить перекличку сюжета «Сна смешного человека» с традиционными православными представлениями о посмертной судьбе человека. Согласно последним[63], первые два дня после своей смерти душа умершего «скитается по земле», ходит по местам, которые она любила, и на третий день возносится на поклонение Богу. С 4 по 8 день душе показываются все красоты рая, всю благостность тамошней жизни. Душа восхищается и в то же время трепещет, боясь, что не попадет в эти райские обители. На 9 день душа опять возносится к Богу. С 10 же по 39 день «…Владыка всех повелевает провести душу по аду и показать ей находящиеся там места мучения, разные отделения ада и разнообразные мучения нечестивых, находясь в которых души грешников непрестанно рыдают и скрежещут зубами»[64]. После чего в 40 день Бог определяет место пребывания души до Всеобщего воскресения. Достоевский был, конечно, знаком с этими представлениями, широко распространенными в русском Православии, и нам думается, что сюжетная канва рассказа имеет свой корень именно в этой традиции. Но любопытно то, что в своем рассказе писатель, так сказать, имманентизирует церковные представления. Религиозные онтологические различия между раем и адом смазываются чисто психологической установкой – все происходит во сне; более того, все происходит в душе одного человека: и рай и ад находятся в нем самом, он сам их порождает; если рай и ад в православном понимании разделены и нет перехода из одного в другой[65], то у Достоевского это один мир, просто в разных его состояниях, соединенных причинной связью (грехопадением); и что очень характерно, в «Сне» нет никакого вознесения к Богу. О последнем мы еще поговорим ниже, но сейчас лишь важно отметить, что именно из этих устоявшихся в русском Православии представлений о загробной участи человека и происходят многие сюжетные и характерологические особенности рассказа. В частности, и этот образ вожатого, «темного Вергилия», которого герой не любит.
9. Гордость и метафизика. «Я смешной человек. Они меня называют теперь сумасшедшим. Это было бы повышение в чине, если б я все еще не оставался для них таким же смешным, как и прежде», - начинает свое повествование герой «Сна»[66]. Чем же смешон смешной человек, и почему объявление сумасшедшим есть «повышение в чине» ? Герой говорит, что он был смешон всегда, и в детстве, и в юности: « Я всегда был смешон, и знаю это, может быть, с самого рождения. Может быть, я уже с семи лет знал, что я смешон. Потом я учился в школе, потом в университете и что же – чем больше я учился, тем больше я научался тому, что я смешон»[67]. Из рассказа, вообще говоря, неясно, в чем же причина того, что герой смешон. И опять, ответы на эти вопросы мы находим в духовной генеалогии героя, в «Записках из подполья». Здесь не только констатируется, что «…человек устроен комически; во всем этом, очевидно, заключается каламбур»[68], но дается и подробное исследование этой «комичности». Ближайшим образом, это социально - психологическая несостоятельность героя из подполья. Социально - психологическая потому, что петербургский коллежский асессор чувствует себя просто винтиком в бюрократической машине имперского Петербурга, от него, практически, ничего не зависит, - а он зависит от всех ! – потому что он маленький человек, и его человечества никто, собственно, и замечать не желает. Русская литература затратила достаточно усилий, чтобы обострить наше внимание к этому маленькому человеку. Однако, Достоевский очень рано ушел от этого аспекта рассмотрения маленького человека. Он идет глубже, он показывает, что не только социально, но и нравственно этот маленький человек несостоятелен. Крутыми зигзагами русской истории он был вырван из почвы традиционных народных ценностей, прежде всего, православия, а новые европейские он так и не сумел сделать своими (если вообще это возможно для русского человека !). Он научился критиковать и сомневаться, но, потеряв старую веру, он не нашел новой. Он научился искать смысл, но так и не обрел истины. Он чувствует метафизическую зыбкость, «подвешенность» своего существования: ответа на фундаментальные вопросы жизни, - в чем смысл жизни ? почему добро лучше зла ? откуда вообще зло в мире ? есть ли надежда на то, что когда – нибудь восторжествует справедливость в мире ? – он не знает. Он очень хорошо умеет критиковать ответы на эти вопросы, уж этому – то он научился, но положительного ответа не находит. Именно ощущение этой глубокой метафизической несостоятельности делает его нерешительным и смешным. «Я не только злым, но даже и ничем не сумел сделаться: ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни насекомым», - говорит о себе герой из подполья[69]. Это ощущение собственного ничтожества почти сводит с ума героя Достоевского. Беспрерывные самокопания парализуют всякую деятельность, герой не делает ничего существенного, но даже, и лентяем не может себя назвать. «О, если б я ничего не делал только из лени. Господи, как бы я тогда себя уважал. Уважал бы именно потому, что хоть лень я в состоянии иметь в себе; хоть одно свойство было бы во мне как будто и положительное, в котором я бы и сам был уверен. Вопрос: кто такой ? Ответ: лентяй; да ведь это преприятно было бы слышать о себе. Значит, положительно определен, значит, есть что сказать обо мне. «Лентяй !» - да ведь это званье и назначенье, это карьера-с. Не шутите, это так»[70]. Поэтому, и в «Сне» герой говорит, что если б его действительно считали сумасшедшим, то это было бы «повышение в чине».
Реакцией на это чувство внутренней несостоятельности является гордость. Герой Достоевского страшно - и парадоксально ! – горд. Казалось бы, чем гордиться, если осознаешь свою несостоятельность, но так устроен человек, и броня гордыни помогает скрывать эту внутреннюю пустоту… «Гордость эта росла во мне с годами, - говорит герой «Сна», - и если б случилось так, что я хоть перед кем бы то ни было позволил бы себе признаться, что я смешной, то, мне кажется, я тут же, в тот же вечер, раздробил бы себе голову из револьвера».[71] Головокружительные «виражи» этой гордости подробно продемонстрированы Достоевским в «Записках», в обеих частях повести, мы не будем здесь на этом останавливаться. Для нас сейчас важнее, что герой «Сна», который, как было сказано, как бы духовно взрослее сорокалетнего коллежского асессора «Записок», отмечает, что со временем, он стал спокойней относиться ко всему этому «миллиону терзаний» своей гордости. Внимание героя переносится с вопросов личного самоутверждения в социуме на более принципиальные, метафизические вопросы. Именно здесь герой приходит к выводу, что не только в себе он не находит основы для нравственно осмысленного существования, но и в самом бытии, вообще, ее нет, что все равно… Если гордость есть болезнь духа, замуровывающая человека в колодце собственного одиночества, не позволяющая ему встретиться с Другим, то здесь, можно сказать, болезнь уходит еще глубже: гордость становится метафизической, гордость перед лицом возможного Творца мира. Верит ли человек в Бога или не верит, но он как бы делает вызов всякому возможному Богу: Отвечай ! за все зло мира, и за то, в частности, что… я такой ! Мы уже отмечали выше, что в этом предстоянии – противостоянии Богу есть и другое начало, а именно, начало метафизического достоинства человека: Сотворен я Тобою или нет, но у меня есть разум, и Ты должен дать ответ перед лицом моего разума, иначе, какой же Ты Бог !.. Но Достоевский тщательно отличает эти начала. Вот, темное существо несет его через бесконечные пространства. «Я не спрашивал того, который нес меня, ни о чем, я ждал и был горд. Я уверял себя, что не боюсь, и замирал от восхищения при мысли, что не боюсь». Герой только что, в могиле, сделал вызов «властителю всего» и последний, - кто бы он ни был ! – явно ответил, и вот ему, маленькому человеку, над которым все смеялись, даются такие откровения ! Значит не такой уж он и маленький и смешной !.. Это наполняет нашего героя гордостью и уверенностью. Но вот, новые мысли опять подводят к фундаментальным вопросам: «И вот я в руках существа, конечно, не человеческого, но которое есть, существует: «А, стало быть, есть и за гробом жизнь !» - подумал я с странным легкомыслием сна, но сущность сердца моего оставалась со мною во всей глубине: «И если надо быть снова, - подумал я, - и жить опять по чьей – то неустранимой воле, то не хочу, чтоб меня победили и унизили ! (жирный курсив мой – В.К.)[72]» Вот он, подпольный человек, во всей глубине своей сущности ! Вот он, во всей и гордыне и метафизике своего существования ! Неслучайно, Достоевский считал «подпольного человека» своим открытием. Подойдя к этому образу, первоначально, чисто психологически и социально, со временем он открыл в нем фундаментальные проблемы бытия личности, ее противостояния миру и Богу. Наряду с морально – психологическими проблемами, - гордыня ! – здесь все большую роль начинают играть проблемы философские и религиозные: личность, которая в принципе есть все, которая в своем волевом выборе может все оценить и оспорить, натыкаясь на свою тварную границу, - жить по чужой воле ! – оказывается перед серьезной метафизической проблемой. Речь идет уже не просто о том, чтобы пожить по своей воле так или иначе, речь идет о том, что сам по себе выбор жить или не жить был мне навязан, не являлся свободным выбором моей воли. Вызов возможному Творцу делается уже в отношении самого бытия: зачем Ты сотворил меня, не спросив меня прежде ?!!.. Достоевский специально подчеркивает это выделяя курсивом слова есть и быть. После Кириллова и Ставрогина из «Бесов» такие вопросы, конечно, уже и не удивительны. Для нас важно лишь подчеркнуть здесь на какой духовной глубине «работает» текст Достоевского, анализирующего, казалось бы, всего навсего гордыню героя.
10. Страдание как медиум истины. Тема страдания человека и, шире, всей твари, сквозная для Достоевского. Можно смело сказать, что это одна из основных тем русского писателя. Эта тема «спасала» Достоевского от полного забвения и в годы советской культуры. Узколобая марксистская критика всегда подчеркивала мастерство писателя в изображении «страданий трудящихся». И это отчасти так, страдания низших классов общества всегда создают определенный фон произведений Достоевского. Однако, тема страдания, конечно, важна для писателя в гораздо большем объеме, она не вмещается только в социологический или психологический контекст и по настоящему может быть осмыслена только в философско – религиозном рассмотрении. Ключевую роль играет тема страдания и в «Сне смешного человека». Вот темное существо, несущее героя через пространства, приближается с ним к Земле. Поначалу все это вызывает в герое изумления и восхищение: То же наше Солнце ! Та же наша Земля ! Как это возможно ?.. Но вот отношение его вдруг резко меняется. «…Мы быстро приближались к планете. Она росла в глазах моих, я уже различал океан, очертания Европы, и вдруг странное чувство какой – то великой, святой ревности возгорелось в сердце моем: «Как может быть подобное повторение и для чего ? Я люблю, я могу любить лишь ту землю, которую я оставил, на которой остались брызги крови моей, когда я, неблагодарный, выстрелом в сердце мое погасил мою жизнь. Но никогда, никогда не переставал я любить ту землю, и даже в ту ночь, расставаясь с ней, я, может быть, любил ее мучительнее, чем когда – либо. Есть ли мучение на этой новой земле ? На земле мы истинно можем любить лишь с мучением и только через мучение ! Мы иначе не умеем любить и не знаем иной любви. Я хочу мучения, чтобы любить. Я хочу, я жажду в сию минуту целовать, обливаясь слезами, лишь одну ту землю, которую я оставил, и не хочу, не принимаю жизни ни на какой иной !..[жирный курсив мой – В.К.]»[73] Чем же «мучительная любовь» лучше просто любви ? Что за святая ревность загорелась в сердце героя ? И полностью, в соответствии с этой ревностью, герой рассказывает об истории падения в этом новом мире. «Наконец эти люди устали в бессмысленном труде, и на их лицах появилось страдание, и эти люди провозгласили, что страдание есть красота, ибо в страдании лишь мысль. Они воспели страдание в песнях своих. Я ходил между ними, ломая руки, и плакал над ними, но любил их, может быть, еще больше, чем прежде, когда на лицах их еще не было страдания и когда они были невинны и столь прекрасны. Я полюбил их оскверненную ими землю еще больше, чем когда она была раем, за то лишь, что на ней появилось горе. Увы, я всегда любил горе и скорбь, но лишь для себя, для себя, а об них я плакал, жалея их [жирный курсив мой - В.К.]»[74]. Мы опять возвращаемся к главному вопросу, ответ на который мы отчасти уже знаем. Почему оскверненная земля дороже герою «Сна», чем рай ? Потому что этот рай, как и всякий конкретный образ жизни без зла, слишком груб, слишком «сусален», чтобы отвечать глубочайшим чаяниям нашего сердца; он предает нашу свободу, наше апофатическое стремление к высшему, к идеалу и тем самым уже, не может быть истинным. Но почему герой любит горе и скорбь, любит страдание и считает, что они вносят особую ценность в мир ? В чем, конкретно, состоит эта ценность, и в чем выгода для человека любить страдание ?.. И как обычно, прототип героя из «Сна», герой «Записок» полностью того же мнения: «Не ошибается ли разум – то в выгодах ? Ведь, может быть, человек любит не одно благоденствие ? Может быть, он ровно настолько же любит и страдание ? Может быть, страдание – то ему ровно настолько же и выгодно, как благоденствие ? А человек иногда ужасно любит страдание, до страсти, и это факт»[75].
Итак, почему же человек любит страдание ? И, следовательно, Золотой век менее ценен ? Дело в том, что в Золотом веке некого жалеть, потому что там нет страдания. Нет страдания, нет и сострадания. А способность жалеть, пожалеть живое страдающее существо принадлежит к высшим и благороднейшим проявлениям человека в той антропологической перспективе, в которой существуют герои Достоевского. Заповедь Божия требует от человека любви к ближнему. Но это очень трудно, ведь этот ближний настолько несовершенен и безнравственен, настолько грешен. Жаление же, сострадание, проявление милосердия к ближнему есть, с одной стороны, как бы минимум любви, а с другой, - есть любовь поверх греха, коростой своей покрывающего и жалеемого, и жалеющего, любовь сквозь грех, любовь, сочувствующая страданию грешника, «из них же первый есьм аз»[76]. Любовь – милосердие, любовь – жаление наиболее дороги Достоевскому. Почему ? Возможны два тока любви: снизу- вверх и сверху - вниз. В любви снизу – вверх, в любви - восхищении я пассивен, энергии высшего существа, предмета любви поднимают меня вверх, к совершенству, спасают меня. В любви сверху – вниз, в любви – милосердии я сам выступаю как спасающее начало. Любовь – милосердие, может быть, наиболее выявляет образ Божий в человеке, и выявляет его Богоподобие. Как Бог через кеносис Сына Своего спасает человека, так и в любом акте милосердия человек, подражая Богу, стремится помочь страждущему. И выбор Достоевского в высшей степени национален: русский народ очень часто заменяет слово люблю, словом жалею, подчеркивая эту спасающую энергию, заключенную в милосердии. Как бы переходя от абстрактного контекста взаимоотношений личностей к их конкретному историческому, грешному и горестному состоянию… Но «…свет во тьме светит, - говорит Евангелие, - и тьма не объяла его (Ин.1:5)». Именно плачущая девочка, маленькое страдающее существо пробивает брешь в, казалось бы, наглухо задраенной и охладевшей душе героя «Сна». И возвращением темы этой девочки, рефреном темы милосердия, кончается рассказ: «А ту маленькую девочку я отыскал… И пойду ! И пойду !»[77] Конечно отыскал для того, чтобы помочь ей, подвинутый на это со – страданием и жалостью. Так, страдание выступает у Достоевского почти необходимым медиумом духовного воскресения человека.
Тема страдания тесно связана с темой греха. Ведь в грехе всегда есть страдание. Грех, как противление воли Божией, писанным ли заповедям, или естественным, написанным в сердцах[78], всегда несет с собой страдание. Христос говорит в Евангелии: «…Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя мое легко» (Мф.11:29-30). Следовать воли Божьей, заповедям Бога значит двигаться по естественным путям жизни, что легко и животворно. Борьба же с Богом и его установлениями не проходит просто, она всегда сопряжена со страданиями. И собственно, говоря богословски, единственной причиной страдания является грех, противление человека Богу. Грех есть следствие человеческой свободы, безблагодатной свободы, свободы выбора, когда человек выбирает путь против Божьей воли. Наряду с этим, есть понятие христианской свободы, свободы от греха, свободы в Боге, т.е. свободы творить волю Божию. Милосердие, любовь – жаление есть проявление именно христианской свободы: выполнение заповеди Божьей о любви к ближнему, выполнение заповеди «Не судите !» Достоевскому, в конце концов, дорога именно эта христианская свобода, свобода милосердия. Но чтобы пожалеть нужно иметь страдание, а страдание вытекает из греха, а грех из свободы формальной, безблагодатной… И здесь, в рассказе «Сон смешного человека», как и во многих других произведениях великого писателя, мы видим своеобразную диалектику свободы: как любовь к свободе христианской переходит в положительную оценку свободы вообще, свободы формальной. Хотя эта положительная оценка нигде прямо не высказана, но она всегда присутствует в рассказе, как соблазнительный и соблазняющий фон… Высказанное в форме известной русской пословицы, - не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасешься, - это звучит грубо и кощунственно и, насколько нам известно, нигде прямо не высказывается Достоевским. Однако, соблазн именно такой диалектики греха и спасения нередко присутствовал в произведениях писателя. Именно этот соблазн подталкивал его всю жизнь к написанию «Жития великого грешника»[79], своеобразной параболы спасения, когда герой должен был претерпеть глубокое нравственное падение, сопряженное, скорее, с неким преступлением, а потом, постепенно, подвигом нравственного покаяния и христианской жизни подняться к высотам если не святости, то добродетели. Этот навязчивый сюжет был настолько значим для Достоевского, что почти все его большие романы, начиная с «Преступления и наказания» представляют собой как бы только первые части этого повествования. В плане христианской жизни сюжет этот, действительно, представляется определенным соблазном, так как, хотя в истории христианства и было немало святых, которые поднялись до святости из инфернальных глубин греха, разбойники, проститутки, гонители христиан и т.д., тем не менее, в Церкви немало примеров святых, которые с самого юного возраста выросли в ней, поражая всех своей моральной чистотой и благочестием (например, прп.Сергий Радонежский, прп.Серафим Саровский). С другой стороны, сюжет кающегося разбойника восходит непосредственно к Евангелию. По церковному пониманию именно благоразумный разбойник, - один из двух преступников, распятых на кресте вместе с Иисусом Христом, - раскаявшийся в своих грехах и исповедавший Христа Сыном Божиим, первым вошел в рай. В русской церковной культуре сюжет благоразумного разбойника в высшей степени популярен, еще более популярен он в народной культуре. Я подробно писал об этом в другом месте[80] и не буду здесь повторяться. Нам важно только отметить, что Достоевский здесь верен именно народной традиции русского понимания христианства и даже соблазн свой разделяет, вероятно, со своим народом…
Устами героя «Записок из подполья» Достоевский дает еще и другое объяснение ценности страданий, которое релевантно и позиции героя «Сна», и которое нередко встречается и в других произведениях писателя. «Страдание, например, в водевилях не допускается, я это знаю. В хрустальном дворце оно немыслимо: страдание есть сомнение, есть отрицание, а что за хрустальный дворец, в котором можно усумниться ?[81] А между тем, я уверен, что человек от настоящего страдания, то есть от разрушения и хаоса, никогда не откажется[82]. Страдание – да ведь это единственная причина сознания. Я хоть и доложил вначале, что сознание, по – моему, есть величайшее для человека несчастие, но я знаю, что человек его любит и не променяет ни на какие удовлетворения. Сознание, например, бесконечно выше, чем дважды два. После дважды двух уж, разумеется, ничего не останется, не только делать, но даже и узнавать. Все, что тогда можно будет, это – заткнуть свои пять чувств и погрузиться в созерцание. Ну, а при сознании хоть и тот же результат выходит, то есть тоже будет нечего делать, но по крайней мере себя иногда можно посечь, а это все – таки подживляет. Хоть и ретроградно, а все же лучше, чем ничего [жирный курсив мой – В.К.]»[83]. Страдание как единственная причина сознания, эта мысль герои Достоевского повторяют во многих произведениях[84]. Страдание порождает стремление уйти от него, порождает отрицание. Почти как Гегель, считавший отрицание движущей силой развития и жизни, Достоевский держится за страдание, как основу сознания, а значит и основу личности. И хотя любимые герои писателя, особенно в начальном периоде его творчества, сплошь и рядом мучаются своим буксующим в бесплодной бесконечной рефлексии сознанием, и страстно завидуют «своему антитезу», «непосредственному человеку»[85], тем не менее, опять, герои эти, как и сам писатель, ни за что не отдадут своего страдания, ибо мышление, порождаемое им, есть основа самой личности.
Не только отрицание и инстинктивное желание уйти от него порождает страдание. Порождая сознание, страдание, по Достоевскому, порождает и более или менее артикулированный вопрос о причине страдания, и вопрос о преодолении страдания не только настоящего и будущего, но и прошлого, и в принципе, страдания всех времен - вопрос об искуплении страданий. Именно в этой метафизической перспективе берет писатель всегда тему страдания. Возможный прогресс человечества не может состоять в том, чтобы просто уничтожить страдание на Земле, установить справедливое общество, где не будет больше зла. Та позиция, которую высказывает Иван Карамазов, возвращающий Богу «билет» в райское будущее, поскольку в истории была, хотя бы, одна слезинка ребенка[86], в менее осознанной форме уже присутствует и в «Сне» и, даже, в «Записках». История не может быть линейной: до определенного времени в ней были страдания, а с какого – то момента исчезли. Не может быть, в смысле, не должна быть ! Этому противится нравственное чувство человека: что же, все предыдущие поколения были только приготовлением к истинной человеческой жизни, которая началась только с определенного момента в истории, только мусором этой истории ? Но ведь это тоже были люди, такие же как мы !?.. Ведь никакого особого изменения антропологического типа в истории не наблюдается, и какой же тогда смысл в этом разделении человечества на спасенных от зла и мучимых злом, и погибших от него ?.. Или этого смысла нет вообще и история только «дьяволов водевиль»[87] ?.. Из аналогичных же соображений не может герой «Сна» просто, так сказать, отбросить всю предшествующую историю и счастливо зажить в «Золотом веке». А как же все предшествующие поколения людей, их страдания, страдания маленькой девочки, мои собственные страдания на Земле ?!.. Присутствие той же идея чувствуется и в рассуждении о бесчестном поступке, совершенном на Луне или на Марсе, и об отношении к нему после, во время жизни на Земле. Дело не в том, что никто не знает на Земле об этом преступлении. Достоевский хочет сказать, что есть непрерывность нравственной жизни, из которой невозможно по произволу исключить тот или иной промежуток. События во времени начинаются и заканчиваются, а нравственный смысл их пребывает вечно, он не во времени, скорее, время в нем… И история не может закончиться просто так, в какой – то определенный момент. Для того чтобы все проблемы истории были разрешены, все узлы развязаны, - а иначе, какой же это конец истории ? – необходимо, чтобы смысл всех событий был убедительно и окончательно проявлен и, прежде всего, смысл страдания. Выявление смысла страдания, - и страдания невинных, в частности ! – есть начало искупления его… История нуждается в искуплении, только тогда нравственное чувство человека, его жажда истины будут удовлетворены. В «Сне» мы еще не видим ясной артикулированности этой идеи. Однако, как планета в поле тяготения невидимого солнца, все повествование здесь управляется этой все более прорастающей в интуиции писателя идеей.
11. Образ Истины. После своего пробуждения настроения героя «Сна» резко меняются. «О, теперь жизни и жизни ! Я поднял руки и воззвал к вечной истине; не воззвал, а заплакал; восторг, неизмеримый восторг поднимал все существо мое. Да, жизнь, и – проповедь ! О проповеди я порешил в ту же минуту и, уж конечно, на всю жизнь ! Я иду проповедовать, я хочу проповедовать, - что ? Истину, ибо я видел ее, видел своими глазами, видел всю ее славу !»[88] Есть разные представления об истине: истина – теория, истина – идея, истина –личность… Особенно важен для нас последний образ, именно так как он понимается в христианстве: Истина – Личность, Истина – Христос. Вопрос об Истине с большой буквы есть всегда вопрос метафизический и религиозный. Уже вопрос об истине в эмпирических науках очень сложен и допускает множество различных интерпретаций: корреспондентная, прагматическая, конвенционалистская, инструменталистская теория истины и т.д. Говоря же об Истине с большой буквы, мы всегда включаем сюда и истину о человеке, о смысле его существования, о смысле истории. А это значит, что мы включаем сюда и вопрос о ценностях. Не только о том, что есть, но и о том, что должно быть, об Идеале, о Боге. Если истина есть только некоторая теория, скажем, научная или философская, которую надо открыть, сформулировать, для усвоения которой достаточно только способностей рассудка, – это одно дело. Тогда для усвоения истины безразличен, вообще говоря, вопрос о добре и зле, истина одинаково открыта и доброму и глубоко безнравственному человеку, лишь бы не потерявшему рассудок. Если же усвоение истины затрагивает всего человека, не только его рассудочную часть, но и волю, или в святоотеческом христианском понимании, - целостный человеческий разум, частью которого является и воля, то тогда для усвоения истины уже недостаточно одних рассуждений. Человек должен не просто усвоить новый взгляд на вещи, он должен измениться вместе со своей волей, со своими желаниями, и только так может быть осуществлено приобщение истине. Приобщение истине тогда есть некий процесс трансформации человеческого существа, для которого более удобен религиозный термин инициация. Еще более глубокое изменение претерпевает, согласно церковному пониманию, христианин, соединяющийся с Истиной, которой является Сам Христос – Бог Слово, Второе лицо Пресвятой Троицы. В этом усвоении Истины, происходит преображение человеческого естества, соединение с Богом, делающее человека Богом по благодати… Поэтому, вопрос об образе Истины всегда есть вопрос философски – религиозный и, в рамках нашей статьи, есть продолжение обсуждения вопроса о религиозной перспективе рассказа «Сон смешного человека».
Истина, о которой говорит герой «Сна», ближайшим образом, есть некая картина, образ: «Но как мне не веровать: я видел истину, - не то, что изобрел умом, а видел, видел, и живой образ ее наполнил душу мою навеки. Я видел ее в такой восполненной целости, что не могу поверить, чтоб ее не могло быть у людей [курсив Достоевского – В.К.]»[89]. Истина, которую узнал и которую проповедует герой есть не формула, не некая физико – математическая теория науки, и вообще не научная истина, а живой образ, который стоит перед его внутренним взором, который герой наш любит, и который побуждает героя к проповеди. Последнее особенно важно: истина обладает здесь определенной энергетикой, она побуждает героя рассказывать о ней всем, распространять ее, проповедовать ее. В то же время, здесь налицо и некоторая двойственность: с одной стороны, истина эта, «…которую биллион раз повторяли и читали…», есть старая известная максима: «…люби других как себя, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь как устроиться»[90]. С другой, это есть, как несколько раз повторяет герой рассказа, «живой образ» истины: «…живой образ того, что я видел, будет всегда со мной и всегда меня поправит и направит»[91]. Этот живой образ истины действительно ответчив, он находится в жизненном диалоге с героем: «Знаете, я хотел даже скрыть вначале, что я развратил их всех , но это была ошибка, - вот уже первая ошибка ! Но истина шепнула мне, что я лгу и охранила меня и направила [жирный курсив мой – В.К.]»[92]. Живой образ истины может шепнуть, подсказать и направить. Этот живой образ у Достоевского есть почти личность, и личность необыкновенная, знающая не только то, что есть, но и как надо. Может быть это и есть Христос ?.. Это ведь так близко к Живому Богу, поправляющему и направляющему человека через его совесть. Однако, целое рассказа заставляет сомневаться в этом.
Вопрос об образе истины у героя естественно соотносится и с образом истины у людей «Золотого века». В IV разделе «Сна», где герой рассказывает о жизни в «Золотом веке», мы читаем: «Они почти не понимали меня, когда я спрашивал их про вечную жизнь, но, видимо, были в ней до того убеждены безотчетно, что это не составляло для них вопроса. У них не было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и непрерывное единение с Целым вселенной; у них не было веры, зато было твердое знание, что когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих и для умерших, еще большее расширение соприкосновения с Целым вселенной». Соприкосновение со вселенной, с Целым вселенной, большее или меньшее… Однако, это соприкосновение только со вселенной, а не с Творцом этой вселенной. Скорее некоторое пантеистическое чувство стоит у жителей «Золотого века» на месте веры в Бога. Аналогично, и в начале рассказа о Земле «Золотого века» Достоевский пишет: «О, я тотчас же, при первом взгляде на их лица, понял все, все ! Это была земля, не оскверненная грехопадением, на ней жили люди не согрешившие, жили в таком же раю, в каком жили, по преданиям всего человечества, и наши согрешившие прародители…»[93] Земля, не оскверненная грехопадением… Но грех есть нарушение воли Божией. Иначе, нравственное несовершенство существ вполне совместимо с другими, чем библейская, историями происхождения людей. Нравственное несовершенство, себялюбие, жадность, порочность могут толковаться тогда, например, как некоторая недоразвитость на пути эволюционного развития. Никакого греха в этом смысле нет, не существует, а есть только более или менее высокие ступени нравственного развития…[94] Грехопадение и грех предполагают некоторую заповедь от одного лица к другому, заповедь, которая была нарушена. Но в «Золотом веке» другого лица, кроме самого счастливого человечества нет. Стало быть и употребление слова грех здесь условно, смысл его здесь несобственный.
Необходимо отметить, что признаваясь, что это именно он развратил всех, герой рассказа не может конкретно объяснить, как это началось: «Как это могло совершиться – не знаю, не помню ясно. Сон пролетел через тысячелетия и оставил во мне лишь ощущение целого. Знаю только, что причиною грехопадения был я. Как скверная трихина, как атом чумы, заражающий целые государства, так и я заразил собой всю эту счастливую, безгрешную до меня землю»[95]. Это уклончивое, метафорическое описание грехопадения характерно отличается от точного и ясного описания Библии. Любопытно, что и описывая ступени грехопадения в «Золотом веке», Достоевский начинает со лжи: «Они научились лгать и полюбили ложь и познали красоту лжи»[96]. Но ложь есть следствие грехопадения. В своем существе грехопадение Адама (Евы) есть своеволие: есть неверие Богу и нарушение Его заповеди. Только потом, по Библии, явилась ложь, когда Бог стал допрашивать Адама. По Достоевскому же, лестница грехопадения следующая: ложь – сладострастие – ревность – жестокость – убийство и т.д. Конечно, все это есть описание некоторой нравственной деградации, однако, это не может являться грехопадением, поскольку изначально в том мире, который описывает писатель, нет Божественного законодателя, заповеди которого бы нарушались. Мы помним, конечно, что в начале своего сна герой, еще находясь в гробу, «воззвал к виновнику всего того, что с ним совершалось»; мы помним, также, что некоторое темное и скорбное существо переносило героя к Земле «Золотого века». Однако, личность этого «виновника» остается непроявленной и отнюдь не создает теистической религиозной перспективы в рассказе[97]; тем более не делает этого и темное существо, которое исполняет явно служебную функцию. Религиозная перспектива «Сна смешного человека» остается двусмысленной.
12. Криптоантихрист. Не может не привлечь внимания завершение сна героя. После нравственного падения всего «Золотого века», герой чувствует себя глубоко виновным, ибо это он принес в этот прекрасный мир все разлившееся в нем зло. «Я простирал к ним руки, в отчаянии обвиняя, проклиная и презирая себя. Я говорил им, что все это сделал я, я один, что это я им принес разврат, заразу и ложь ! Я умолял их, чтоб они распяли меня на кресте, я учил их, как сделать крест. Я не мог, не в силах был убить себя сам, но я хотел принять от них муки, я жаждал мук, жаждал, чтоб в этих муках пролита была моя кровь до капли»[98]. Что здесь происходит ? Герой хочет быть распят на кресте за грехи человечества, причиной которых он, де, является. Герой, что, хочет быть новым Христом ?.. Да, Христос был распят на кресте за грехи человечества, которые взял на себя. Но он не был причиной этих грехов. Во Христе, согласно церковному учению, соединились без смешения два естества: полнота Божественного и полнота человеческого. Причем в человеческом естестве Христа не было греха ! Герой же сна есть по определению грешный человек, у которого есть только одно отличие от людей этого нового мира: он был перенесен в этот мир из другого и именно он был источником греха и растления в «Золотом веке». Но в библейском понимании источником растления был дьявол, Сатанаил. Поэтому естественно возникает гипотеза: не является ли духовной пружиной, внутренним движущим импульсом образа героя во сне именно Сатана, источник зла в творении ? Мы подчеркиваем, именно, во сне, потому что пробудившийся герой как бы исцеляется от этой враждебной добру силы. Эта гипотеза подтверждается тем, что герой «Сна» приходит («прилетает») в «Золотой век»… из могилы, то есть, вообще говоря, из ада. В этом трудно сомневаться именно потому, что в начале сна он совершает один из самых страшных в христианском понимании грехов для человека, кончает жизнь самоубийством. То наказание, которое достается ему в могиле, действительно ужасно своим бессмысленным издевательством. Это, как мы помним, выражает и сам герой: «Если же ты мстишь мне за неразумное самоубийство мое – безобразием и нелепостью дальнейшего бытия…»[99] Но именно здесь в могиле, в аду герой получает и своеобразную инициацию ада. Герой, как мы знаем, и так всегда был горд. Но тут перед вызовом этого вечного мучения живого погребения он демонстрирует воистину демоническую гордыню: «…знай, что никогда и никакому мучению, какое бы ни постигло меня, не сравниться с тем презрением, которое я буду молча ощущать, хотя бы в продолжении миллиона лет мученичества !..»[100] Тому презрению, которое испытывает к человеку и его мучениям владыка ада, герой противопоставляет презрение свое , молчаливое и упорное, хоть на «миллион лет» ! Титаническое духовное усилие этого вызова как бы переплавляет всю душевную субстанцию нашего героя, осуществляя инициацию демонической гордыней… И твердыня ада поколебалась, «властитель всего происходящего» (в аду) ответил: героя забирает из могилы некое темное существо. В этом смысле становится и ясней основная характеристика существа, которое несет героя: темное существо, то есть служебный дух ада, которого герой «не любил» и, «даже чувствовал глубокое отвращение»[101]. Мы уже отмечали выше, как во все время полета герой постоянно ощущает присутствие своей гордости и когда он осознает, что опять зависим от кого – то, он восклицает: «И если надо быть снова…и жить опять по чьей-то неустранимой воле, то не хочу, чтоб меня победили и унизили !»[102] «Сущность моего сердца, - пишет Достоевский, - оставалась со мною во всей глубине…»[103] Эта сущность есть безумная гордыня существа зависимого, в принципе, тварного, и в то же время, желающего быть выше всего существующего… Эту инициацию получил герой в могиле, в аду, и именно с таким духовным «багажем» приближается он к планете «Золотого века». И судя по кратким замечаниям писателя, эта инициация продолжается и во время полета: «Страх нарастал в моем сердце. Что-то немо, но с мучением сообщалось мне от моего молчащего спутника и как бы проницало меня [жирный курсив мой – В.К.]»[104].
Любопытно, также, что несомый темным существом герой вдруг замечает в кромешной темноте звездочку, только одну. « «Это Сириус ?» - спросил я, вдруг не удержавшись, ибо не хотел ни о чем спрашивать [по гордыне – В.К.]. – «Нет, это та самая звезда, которую ты видел между облаками, возвращаясь домой», - отвечало мне существо, уносившее меня»[105]. То есть, это была именно та самая звезда, которая дала герою решимость убить себя этой же ночью !.. Мы читаем в начале рассказа: «Небо было ужасно темное, но явно можно было различить разорванные облака, а между ними бездонные черные пятна. Вдруг я заметил в одном из этих пятен звездочку и стал пристально глядеть на нее. Это потому, что эта звездочка дала мне мысль: я положил в эту ночь убить себя… Я все ждал минуты. И вот теперь эта звездочка дала мне мысль, и я положил, что это будет непременно уже в эту ночь»[106]. Герой со своим темным вожатым несутся через пространства, но за ними все время как бы наблюдает – или ведет !? – таинственная звезда, наяву побудившая героя к самоубийству, а потом, - хотя жалость к маленькой девочке и остановила героя, - потом, опять реализовавшая этот смертный грех во сне ![107] Герой сошел в результате в ад, пережил там пароксизм демонической гордыни и вот, опять, сопровождаемый этой звездой несется в бесконечных темных пространствах. Пытаясь найти какое – то имя для этой звезды, затерявшейся в черных бесконечностях пространства, как - то персонифицировать эту сущность мы приходим к имени Люцифера, Денницы, духа восстания и отца гордыни, одинокого источника безжизненного света, так позже христиане стали называть Сатану, начало и источника зла…
И вот, этот человек, получивший инициацию сатанинской гордыни, развращает все человечество, а потом начинает жалеть его, плакать о нем и рваться на крест, чтобы искупить все грехи человечества. Жажда, необходимость этого искупления очевидны в рассказе, как очевиден и парадокс: для искупления человечества нужна чистейшая Жертва, Агнец Божий, безгрешный Христос, а здесь на эту роль претендует грешное человеческое существо, одержимое, к тому же, сверхчеловеческой сатанинской гордыней. Чем же может быть это существо, как не пародией, карикатурой на Христа – Искупителя, как не предсказанным антихристом… И конец сна героя в «Сне смешного человека» есть парадоксальная попытка покаяния антихриста… Такова внутренняя логика образа героя во сне. Мы не утверждаем, что Достоевский однозначно вкладывал именно идею антихриста в поведение своего героя во сне. Скорее, эта идея, благодаря бесстрашному и бескомпромиссному таланту писателя сама рвалась к воплощению, может быть, даже, и вопреки намерениям самого писателя…[108] Неслучайно конец сна героя как бы оборван: « Наконец, они объявили мне, что я становлюсь им опасен и что они посадят меня в сумасшедший дом, если я не замолчу. Тогда скорбь вошла в мою душу с такою силой, что сердце мое стеснилось, и я почувствовал, что умру, и тут… ну, вот тут я и проснулся»[109]. Достоевский как бы сам чувствует, что «слишком далеко зашел» в этой захватывающей и опасной игре с художественным образом, что сюжет этот и материя эта требуют более внимательного продумывания, и… будит своего героя.
13. Заключение. По своему идейному и духовному содержанию рассказ «Сон смешного человека» представляется сложным синкретическим целым. Именно это смешение разнородных духовных начал, обусловленное, прежде всего, гениальной способностью Достоевского открывать и изображать живую субстанцию образов[110], оставляет у внимательного читателя всегда ощущение некоторой двусмысленности и тайны, заключенной в этом рассказе. Кроме того, чрезвычайно значим всегда конфликт между художником и мыслителем: чувство правды художника, провидца и визионера, все испытывающего опытом сердца, все время спорит с рассуждениями мыслителя, тесно связанными с идейной атмосферой своего времени, с его теориями и верованиями. Еще раз: необходимость в Искупителе, в Иисусе (греч. форма евр. слова Иешуа, значит Спаситель) в рассказе очевидна, как была она всегда очевидна для Достоевского (см. параграф о страдании). Однако, необходимости во Христе (греч. Помазанник, от евр. Мессия, означающего то же), то есть, в посланном Самим Богом Спасителе, имеющем полноту даров Святого Духа Первосвященнике и Царе человечества, в рассказе нет. Как нет и самого Господа Бога. На место Спасителя претендует сам человек, со всеми своими грехами и несовершенствовами. В плане же традиционной богословской номинации последнее есть путь антихриста… Нельзя сказать, что Достоевский сам однозначно принимает в рассказе этот антихристов путь спасения. Это во сне его герой, получивший инициацию в аду, рвется искупить человечество на кресте. Проснувшись, он уже отказывается от таких радикальных и соблазнительных путей и идет, со смирением, проповедовать любовь между людьми. В евангелии от Матфея на вопрос законника о том, какая заповедь в законе выше всего, Христос отвечает: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки»(Мф. 22:37-40). Это целостная двуединая заповедь, данное самим Богом необходимое условие спасения. Мы видим, что именно вторую часть этой заповеди исполняет и призывает исполнять герой «Сна». О первой части нет и речи… На практике это оборачивается верой с силу чисто словесного переубеждения людей, в перевоспитание их только человеческими средствами. Но эта вера в возможность преодоления зла одной проповедью есть традиционная утопия. Чувствуется, что опыт увлечений социализмом, Фурье и Ж. Занд все еще не преодолен писателем во всей полноте, яды утопий все еще здесь. «То правда, - писал о.Георгий Флоровский в «Путях русского богословия», - что органического соблазна Достоевский до конца так и не преодолел. Он остается утопистом, продолжает верить в историческое разрешение жизненных противоречий»[111]. Разве что, сознательное изображение героя юродствующим («смешной человек») говорит о том, что Достоевский все более решительно отходил от соблазнительных идеалов юности…